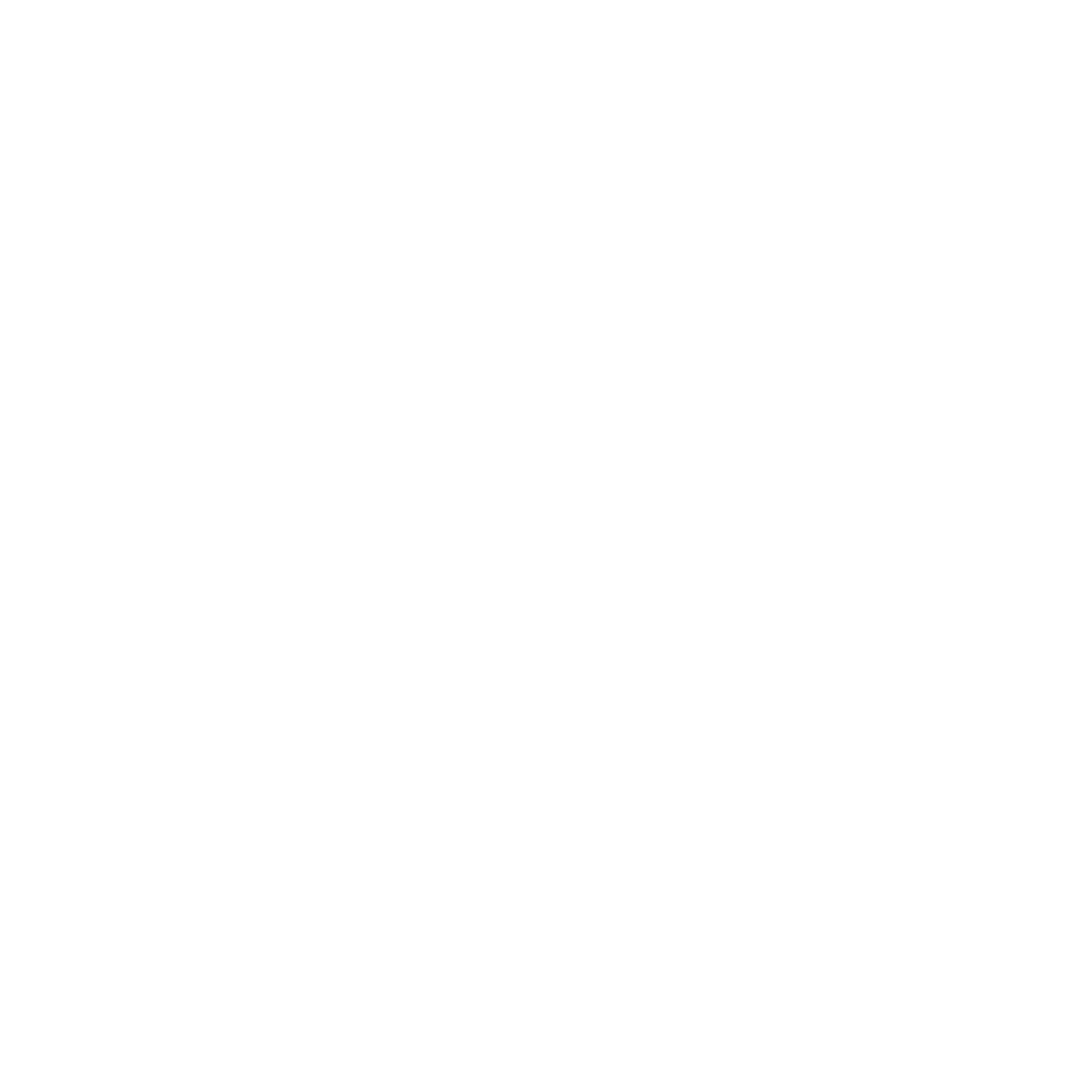| Юлия Константинова Создатель Чувашской биеннале современного искусства об успехах проекта, своём образовании и культурной жизни Чувашии — эксклюзивно в интервью для «Дак Медиа». Перейти к чтению |
| Юлия Константинова Создатель Чувашской биеннале современного искусства об успехах проекта, своём образовании и культурной жизни Чувашии — эксклюзивно в интервью для «Дак Медиа». Перейти к чтению |
После завершения насыщенной программы второй биеннале мы решили лично встретиться с Юлией, чтобы обсудить с ней прошедшие события, изучить её профессиональный опыт, а также провести критический анализ актуальных проблем культурной жизни Чувашии.
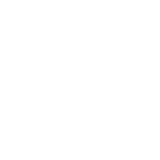
Владислав Былинкин
Юлия, по каким критериям вы измеряете успех своего проекта?
Во-первых, важно количество посетителей и обратная связь от них. Её довольно легко найти по разным телеграм-каналам, даже со 100 подписчиками. Порой намного более ценно получить отзыв от посетителя, не относящегося к сфере искусства.
Во-вторых, очень важна история взаимоотношения с художниками. Задача биеннале — максимально глубоко погрузиться в контекст каждого автора и помочь, в том числе, с точки зрения экспонирования: показать его объект или инсталляцию. Обратная связь от самих художников также играет немаловажную роль в успешности проекта.
В этот раз нам не хватило ресурсов, чтобы полноценно со всеми пообщаться. Учитывая увеличение количества художников (около 70 человек), принявших участие в биеннале, хочется развиваться в данном направлении. Оптимальным представляется установление контакта с художниками минимум за год до начала биеннале, что позволит им в течение этого времени подготовить работы с учётом специфики площадки и потенциальных условий размещения.
Во-вторых, очень важна история взаимоотношения с художниками. Задача биеннале — максимально глубоко погрузиться в контекст каждого автора и помочь, в том числе, с точки зрения экспонирования: показать его объект или инсталляцию. Обратная связь от самих художников также играет немаловажную роль в успешности проекта.
В этот раз нам не хватило ресурсов, чтобы полноценно со всеми пообщаться. Учитывая увеличение количества художников (около 70 человек), принявших участие в биеннале, хочется развиваться в данном направлении. Оптимальным представляется установление контакта с художниками минимум за год до начала биеннале, что позволит им в течение этого времени подготовить работы с учётом специфики площадки и потенциальных условий размещения.
Как вы оцените недавно прошедшую вторую биеннале? Удалось ли достичь поставленных целей?
Из того, что могли сделать — мы выжали максимум. Безусловно, можно говорить о количественных показателях — увеличении числа авторов, площадок и различных активностей. Но я не хочу оценивать только так, гонясь за гигантоманией: быстрее, выше, сильнее.
Хочется говорить и о качественных результатах. Мы приложили максимум усилий для создания содержания и насыщенности проекта как в выставочной, так и в образовательной части. Существенный вклад внесли наши коллаборации не только с институциями-площадками — Музей чувашской вышивки, Чувашский национальный музей, культурный центр «Сверхновый», а также новые форматы сотрудничества с «Крафт-маркетом» и «Киноклубом». Эти партнёрства стали важным нововведением для биеннале, позволившим наладить эффективный обмен аудиториями и расширить коммуникационное поле проекта.
Хочется говорить и о качественных результатах. Мы приложили максимум усилий для создания содержания и насыщенности проекта как в выставочной, так и в образовательной части. Существенный вклад внесли наши коллаборации не только с институциями-площадками — Музей чувашской вышивки, Чувашский национальный музей, культурный центр «Сверхновый», а также новые форматы сотрудничества с «Крафт-маркетом» и «Киноклубом». Эти партнёрства стали важным нововведением для биеннале, позволившим наладить эффективный обмен аудиториями и расширить коммуникационное поле проекта.
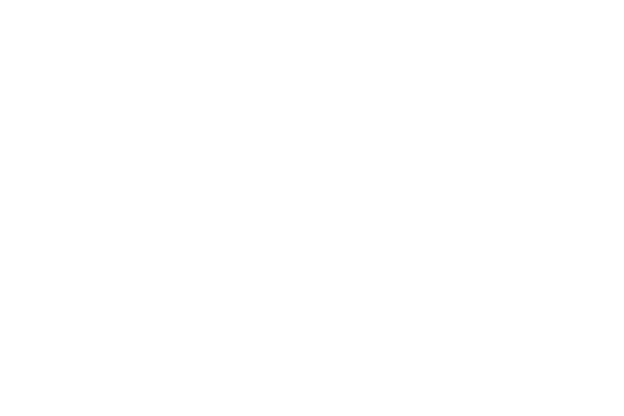
Почему был выбран именно формат биеннале (раз в два года), а не ежегодная выставка? Какие преимущества видите в этом формате?
Здесь очень важно понимать, что биеннале, прежде всего, должна исследовать то пространство и место, в котором она проводится. Также она настроена на взаимодействие со внешним миром. Мы хотели рассказать о регионе внутренней и внешней аудиториям.
Перед первой биеннале, по вашим словам, многие представляли Чебоксары «каким-то городом между Казанью и Нижним». Изменилась ли ситуация после второй?
Если скажу, что это сильно изменилось — совру. Потому что, конечно, проведение выставочного проекта имеет долгосрочный эффект. Мы не можем сказать, что, проведя два раза биеннале, всё кардинально изменилось, что теперь все знают о Чебоксарах. Я думаю, это вопрос последовательных изменений совершенно разных сфер. Сейчас мы можем наблюдать, как в Чебоксарах, например, сфера гостеприимства стремительно меняется, у нас появилась первая пятизвёздочная гостиница, скоро откроется вторая. У нас появились рестораны современной чувашской кухни, и это всё, конечно, влияет на узнаваемость региона. Это общее дело.
Расскажите подробнее о планах по территориальному расширению. Как проект попал в Абашево?
Одно из важных следствий проведения первой биеннале — знакомство в рамках образовательной программы с Алиёй, директором музея «ZAMAN». У них номандическая резиденция, которая путешествует по различным регионам России. В результате взаимного интереса было принято решение о проведении резиденции в Чувашии, и мы искренне рады, что это случилось.
Если бы не партнёрство с «ZAMAN» — мы бы не вышли за пределы Чебоксар, остались в тех же локациях. Я часто говорю, что одна из моих любимых выставок в рамках всего биеннале прошла в клубе села Абашево. Она длилась всего 3–4 дня, но была невероятно чуткой. Актовый зал ДК превратился в выставочное пространство, где встречались местные сельские жители и городские гости. Это была синергия разных смыслов.
Если бы не партнёрство с «ZAMAN» — мы бы не вышли за пределы Чебоксар, остались в тех же локациях. Я часто говорю, что одна из моих любимых выставок в рамках всего биеннале прошла в клубе села Абашево. Она длилась всего 3–4 дня, но была невероятно чуткой. Актовый зал ДК превратился в выставочное пространство, где встречались местные сельские жители и городские гости. Это была синергия разных смыслов.
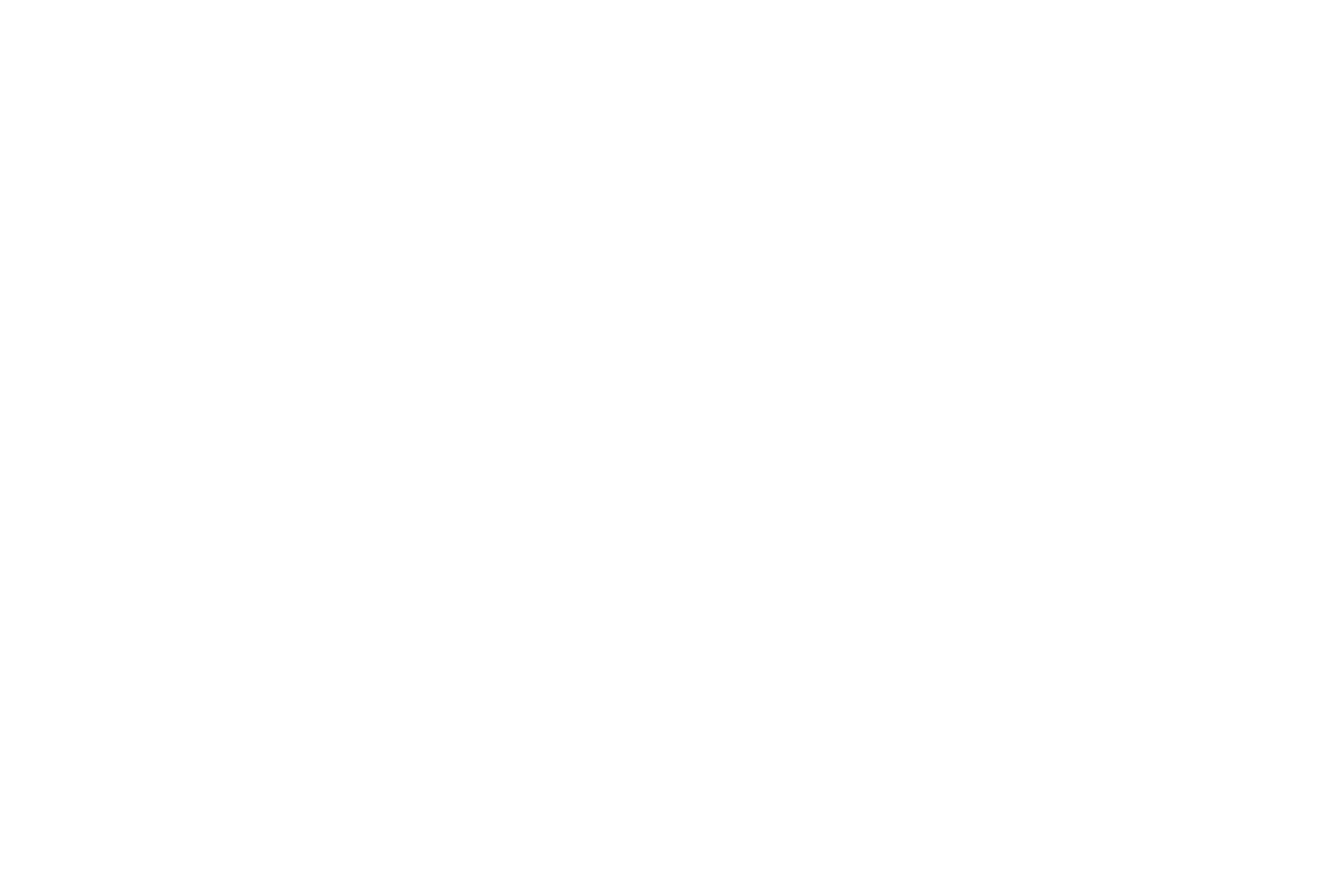
Из кого состоит ваша команда сейчас?
Когда мы готовили первую биеннале, особое внимание уделялось формированию команды медиаторов. И так получилось, что три медиатора из первоначального состава остались в команде и по сей день. Среди них:
И, конечно, наши медиаторы, около 20 человек.
Также я очень благодарна нашему бэк-офису — агентству IVS за то, что поверили в наш проект и были с нами на всех этапах реализации. Без них биеннале была бы невозможна.
- Анна Гусянова и Оксана Плотникова — менеджеры проекта, которые успешно взаимодействовали с художниками и решали вопросы, связанные с застройкой пространства.
- Варвара Седанова — специалист, работавший в Чувашском драматическом театре, помимо основных функций, эффективно координировала деятельность медиаторов непосредственно на площадке.
- Александра Никитина — отвечала за резиденцию, образовательную программу и множество организационных вопросов.
- Ирина Конюхова — была куратором второй биеннале, сформулировала тему этого выпуска, выбирала художников по итогам опен-колла и вела дальнейшую коммуникацию с ними.
- Александра Адаскина — занимала пост пиар-директора, отвечала за все спец материалы, публикации и, конечно, пресс-тур.
И, конечно, наши медиаторы, около 20 человек.
Также я очень благодарна нашему бэк-офису — агентству IVS за то, что поверили в наш проект и были с нами на всех этапах реализации. Без них биеннале была бы невозможна.
А провалы у вас с командой бывали?
Всегда многое идёт не так, просто всё можно решить. Были все шансы, что мы вообще не окажемся ни в Чувашском драмтеатре, ни во дворе Чувашского национального музея, ни в культурном центре «Сверхновый». Работа с площадками — это постоянная коммуникация.
Есть ли проекты, которые до сих пор не получилось осуществить в рамках биеннале?
Нам бы очень хотелось захватить территорию залива. Если биеннале продолжится, думаю, мы будем к этому готовы. Очень хочется, чтобы появлялось больше паблик-арта, уличного искусства. Потому что очевидно: не все из жителей и гостей города дойдут до самих выставок, но это взаимодействие, эта точка соприкосновения с современным искусством очень важна.
Мне очень хочется, чтобы люди проходили, удивлялись, задавали вопросы. Я верю в силу современной культуры, которая может внутренне задеть человека и что-то изменить в его мировоззрении, возможно, через вопрошание, через отрицание, но приведёт к пониманию, что есть какие-то другие формы, и это тоже может быть искусством.
Мне очень хочется, чтобы люди проходили, удивлялись, задавали вопросы. Я верю в силу современной культуры, которая может внутренне задеть человека и что-то изменить в его мировоззрении, возможно, через вопрошание, через отрицание, но приведёт к пониманию, что есть какие-то другие формы, и это тоже может быть искусством.
Чем, на ваш взгляд, обусловлен большой запрос аудитории на чувашский язык? Ведь даже вы в детстве считали, что он нужен лишь в деревне.
Произошли глобальные изменения, которые можно будет объяснить уже в ретроспективе. Сейчас, на мой взгляд, это в том числе заслуга многих активистов, того же самого языкового лагеря «Хавал». Общий фон, который ведёт к раскрытию с совершенно разных сторон чувашской культуры, в том числе языка. Через язык многое можно узнать о народе и о традициях. Это происходит не только в Чувашии — стремление к первоосновам.
Что приносит вам наибольшее удовлетворение в работе над биеннале?
Непредвиденные моменты дают мне огромную энергию. Я очень люблю решать непреодолимые, на первый взгляд, задачи. Удивляюсь, насколько много сил и энергии в нас заложено. Мы можем идти по пути возмущения, а можем — созидания. Столько новых нейронных связей рождается, когда человек начинает решать сложные вопросы и придумывать совершенно разные сценарии.
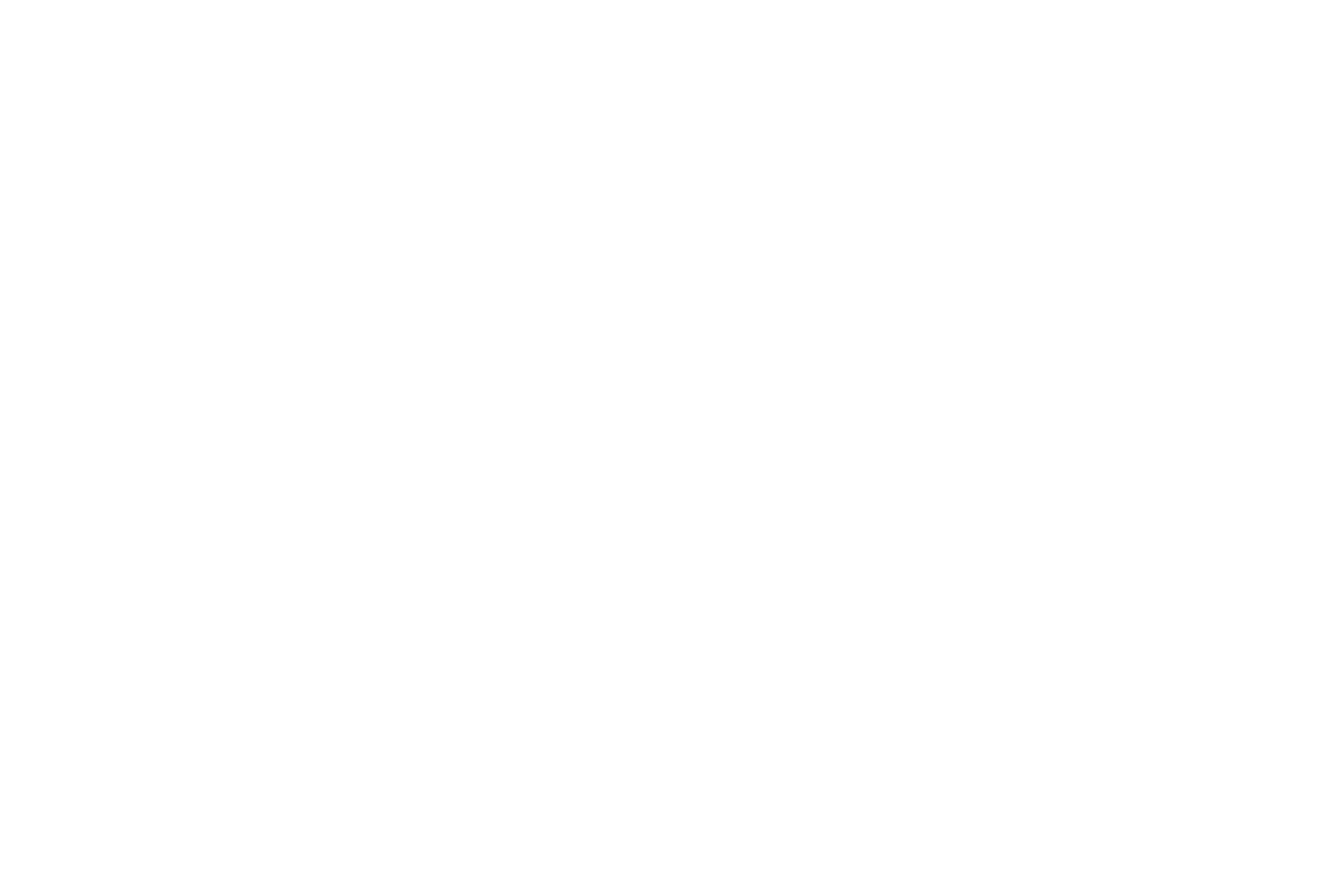
Какой момент в истории проекта стал для вас самым значимым?
Многие моменты биеннале ощущаются как происходящие впервые. Хочется сохранить это удивительное чувство новизны как можно дольше.
Можно ли сказать, что именно биеннале до конца сформировала комьюнити художников в Чувашии?
Можно. Первая биеннале дала отклик. Художнику очень важно показывать результаты своей деятельности. Ощущение, что ты нужен, можешь экспонироваться, можешь где-то быть представлен — очень важно. Часто, особенно в начале пути, не каждый может назвать себя художником, потому что работает «в стол» параллельно с основной работой.
Почему вы решили начать своё образование именно с исторического факультета?
Я не могу сказать, что это было супер-осознанное решение. Вообще не понимаю, как дети в 17 лет могут принимать такие важные решения. В этом на самом деле большая проблема: потом мы часто переучиваемся и оказываемся в других сферах.
На первом курсе, когда у меня начались пары по истории искусства, я попала в Пушкинский музей и начала знакомиться с визуальной культурой. Если бы была моя воля, я бы не во всём слушалась родителей и ушла с первого курса. Даже собирала документы в РГГУ на факультет истории искусства. Но в тот момент согласилась с родителями, которые говорили, что я так и буду всю жизнь прыгать с одного на другое.
Я всё равно нашла способы взаимодействовать с искусством: стала волонтёром, посещала лекции. Как могла, восполняла присутствие искусства в своей жизни. Исторический факультет выбрала по принципу «что мне близко», потому что всё равно хотела гуманитарную сферу. Подавала документы на факультеты истории, философии и ещё куда-то. Это был рандомный выбор. Поэтому в магистратуру я уже поступала на арт-менеджмент.
На первом курсе, когда у меня начались пары по истории искусства, я попала в Пушкинский музей и начала знакомиться с визуальной культурой. Если бы была моя воля, я бы не во всём слушалась родителей и ушла с первого курса. Даже собирала документы в РГГУ на факультет истории искусства. Но в тот момент согласилась с родителями, которые говорили, что я так и буду всю жизнь прыгать с одного на другое.
Я всё равно нашла способы взаимодействовать с искусством: стала волонтёром, посещала лекции. Как могла, восполняла присутствие искусства в своей жизни. Исторический факультет выбрала по принципу «что мне близко», потому что всё равно хотела гуманитарную сферу. Подавала документы на факультеты истории, философии и ещё куда-то. Это был рандомный выбор. Поэтому в магистратуру я уже поступала на арт-менеджмент.
Как историческое образование повлияло на восприятие родного края?
Безусловно, историческое образование оказало значительное влияние. Каждый раз, возвращаясь на каникулы в Чебоксары, я смотрела на город и общий код региона совершенно иначе.
Какие навыки и знания, полученные в магистратуре по арт-менеджменту, оказались наиболее полезными при создании биеннале?
Наиболее полезными оказались практические навыки. Мы учились анализировать музейную документацию, создавать собственные кейсы и взаимодействовать с практикующими специалистами. После первого курса я узнала, что получила грант, и первая Чувашская биеннале современного искусства стала моей дипломной работой.
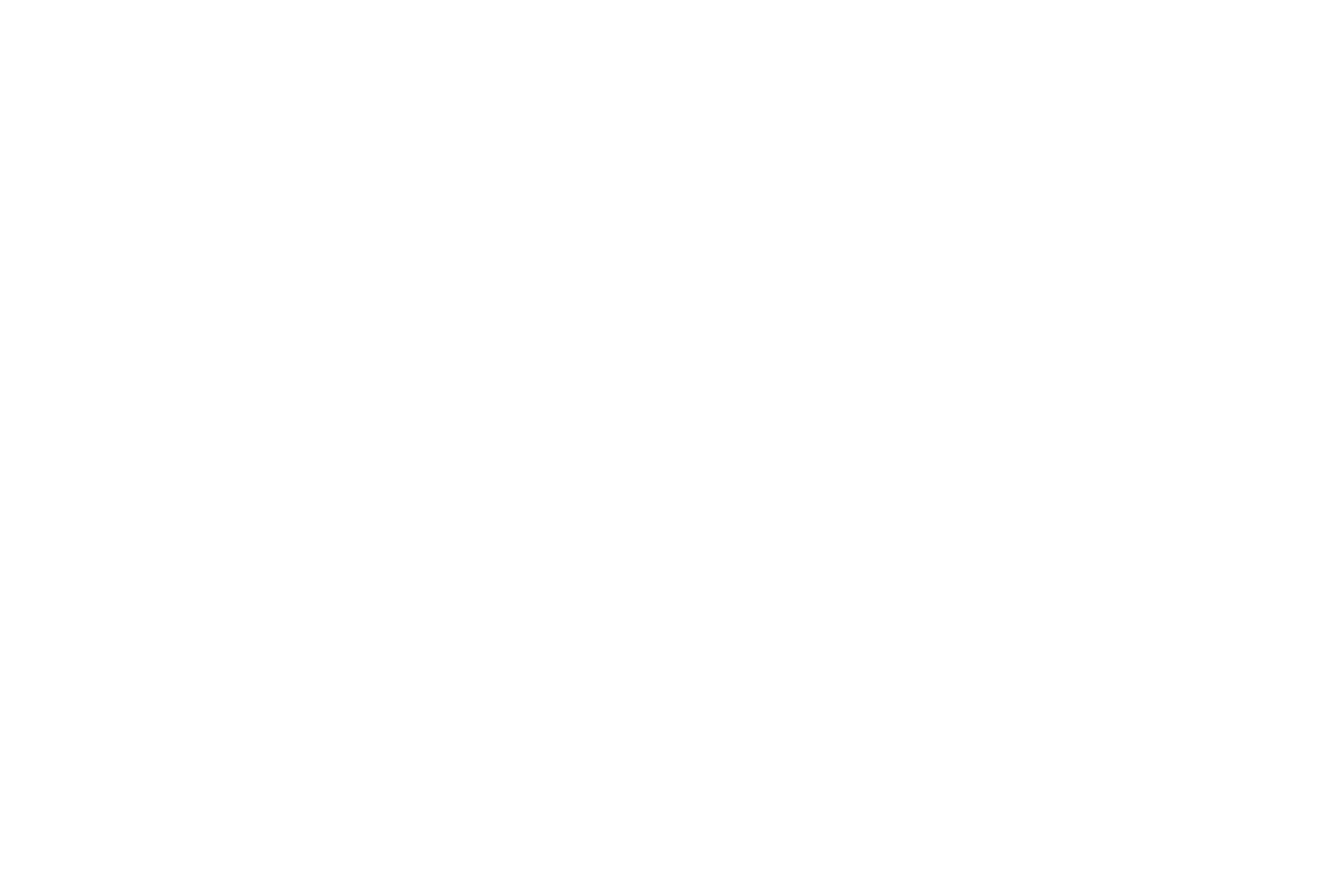
Какие ещё культурные проекты могли бы усилить позиции Чебоксар на культурной карте России?
В городе ещё многого не хватает. У нас есть центр современного искусства, но хотелось бы видеть его в просторном, отдельно стоящем здании. Необходимо создать новое многофункциональное пространство, где могли бы собираться молодые ребята. В таком месте должны быть библиотека, выставочная зона и площадка для проведения лекций. Примеры подобных пространств — «Рельсы» в Твери, «Zaman» в Уфе, «Выкса» в Нижнем Новгороде.
В Чебоксарах до сих пор нет ни одной частной галереи, а именно с неё начинается история коллекционирования искусства. Кажется, что у нас пока отсутствует понимание того, что произведения искусства можно покупать, а не ждать, что художник будет их дарить.
В Чебоксарах до сих пор нет ни одной частной галереи, а именно с неё начинается история коллекционирования искусства. Кажется, что у нас пока отсутствует понимание того, что произведения искусства можно покупать, а не ждать, что художник будет их дарить.
Есть ли у вас любимый чувашский праздник? Как отмечаете?
Живя у залива в Чебоксарах, я не очень любила большие праздники. Однако салют в День города всегда объединял людей. Мы с родителями обязательно спускались к Московскому мосту или к Театру оперы и балета, чтобы его посмотреть. На концерты мы не ходили, но салют никогда не пропускали.
Как вы находите гармонию между профессиональной реализацией и женственностью?
Многие отмечают мою лёгкость и женственность, и я стараюсь сохранять эти качества даже в профессиональной среде. Важно уметь совмещать организаторские способности с природной мягкостью, при этом оставаясь достаточно решительной, когда требуется достичь результата. Главное — уметь переключаться. Я приняла себя такой, какая есть, и решила оставаться верной себе, даже если это где-то будет создавать определённые трудности.
В чём заключается главная миссия современного искусства в регионах России сегодня?
Считаю, что сегодня существует сильная позиция академического искусства, но недостаточно институций, поддерживающих современное искусство. Важно понимать: любое традиционное искусство когда-то было современным. Если мы не будем поддерживать новые художественные практики, у будущих поколений не будет этого самого традиционного наследия. Культура рискует застыть в статичном состоянии.